Sтраница Основного Sмысла
Человечество погибнет, если художник не докричится до него

Для нас Пабло Пикассо — далеко и высоко, а для Ильи Эренбурга («Люди, годы, жизнь») — близкий знакомый, почти друг.
 «В начале 1915 года, в холодный зимний день, Пикассо повел меня в свою мастерскую, которая находилась недалеко от «Ротонды», на улице Шельшер».
«В начале 1915 года, в холодный зимний день, Пикассо повел меня в свою мастерскую, которая находилась недалеко от «Ротонды», на улице Шельшер».
Или: «Пикассо сделал мой портрет карандашом».
Да, они часто встречались, обедали в ресторанах, вели разговоры, но я не рискну утверждать, что Эренбург понимал Пикассо. Да, когда они встретились, Эренбург «сразу понял, нет, вернее, почувствовал, что передо мной большой человек». Эренбург почувствовал весомость Пикассо не через его творчество, а помимо его. Творчество всемирно известного художника им не разгадано. Сошлюсь на самого писателя.
«Люди, которые пишут о Пикассо, отмечают, что он стремится освежевать, распотрошить зримый мир, расчленить и природу, и мораль, сокрушить существующее».
«Я не раз в жизни ощущал разрушительную силу Пикассо».
«Теперь некоторые холсты Пикассо мне кажутся нестерпимыми: я не понимаю, почему он способен возненавидеть лицо прелестной женщины».
 Эренбург приводит пример о том, как ему позировала одна красивая американка. Он сделал десятки рисунков. На первом портрете она выглядит такой, какая есть, реалистично. Но «постепенно Пикассо начал разлагать лицо». Будто бы он нашел в женщине черты, выдававшие ее истинный характер. И, в конце концов, получилась «свинья в кубе».
Эренбург приводит пример о том, как ему позировала одна красивая американка. Он сделал десятки рисунков. На первом портрете она выглядит такой, какая есть, реалистично. Но «постепенно Пикассо начал разлагать лицо». Будто бы он нашел в женщине черты, выдававшие ее истинный характер. И, в конце концов, получилась «свинья в кубе».
В связи с портретом красивой американки возникает вопрос: что такое портрет? И кто он, художник, пишущий портрет? Он, может быть, нравственный судья? А кто дает ему право совершать такой суд? Наконец, нравственно ли это — на свой лад, публично разоблачать человека, превращая красавицу в свинью?
Да, считается, что сходство — не главное в портрете, что важнее сходства — глубинное проникновение в сущность натуры. Но должно ли это постижение происходить в ходе работы над портретом или ей предшествовать? В любом случае разоблачать людей — не дело художника. И не только людей.
В рассказе о Пикассо в книге Эренбурга особняком стоит эпизод о встрече во Вроцлаве  Александра Фадеева и Пикассо.
Александра Фадеева и Пикассо.
«Фадеев: Я некоторых вещей ваших не понимаю, лучше это я скажу вам сразу. Почему вы иногда выбираете форму, непонятную людям?
Пикассо: Скажите, товарищ Фадеев, вас учили в школе читать?
Фадеев: Разумеется.
Пикассо: А как вас учили?
Фадеев (со своим тонким пронзительным смехом): Бе-а-ба…
Пикассо: Как и меня — «ба»… Ну, хорошо, а живопись вас учили понимать?
Фадеев снова рассмеялся и заговорил о другом».
Пабло Пикассо уличил Александра Фадеева в безграмотности. Писатель признался художнику, что он его не понимает, а художник ему отвечает, что он неуч, что искусству надо учиться. Если не учиться — не поймешь.
Я думаю, что Пикассо должен был сказать Фадееву, что искусство не надо понимать, его надо чувствовать, но он этого не сказал. Наверное, не случайно и то, что Пикассо не научил Фадеева понимать его творчество, а Фадеев не захотел у него учиться.
Сложность в простоте
Вопрос о понятности искусства — первый и последний. С него оно начинается и им заканчивается. Никто более, чем сам художник, не заинтересован в том, чтобы его понимали. Если художнику есть что сказать, если художник хочет сказать и быть услышанным, то он должен позаботиться о максимальной простоте своего высказывания. Все муки самовыражения к тому и должны сводиться, чтобы сложное сделать простым.
Выскажусь прямо: если перед художником стоит проблема «о чем», ему следует менять профессию. Допустим, человек несколько лет учился «на художника», выучился, получил диплом и после этого обнаружил, что не знает, чем занять себя после учебы, — это сигнал тревоги. Он поторопился стать профессионалом. Растянувшиеся на годы муки по поводу того, чему посвятить свое творчества, — страдания напрасные. Это — приговор, вынесенный еще до суда. Потому что вопрос «о чем» следовало бы решить до учебы, до обретения ремесла. Художниками становятся не учебой, а судьбой. Без мук художнику, наверное, не обойтись, но они о том, «как». Как выразиться, чтобы ты был доволен сам, чтобы тебя услышали, поняли и — отозвались.
Сошлюсь на 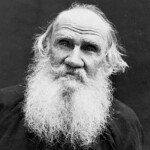 Льва Толстого. Это такой мудрец, который часто ошибался, но у которого даже ошибки — истинны. Он очень подробно размышлял о том, что такое искусство. Всякий «человек искусства» должен «вертеться» вокруг этой темы, а Толстому — сам Бог велел.
Льва Толстого. Это такой мудрец, который часто ошибался, но у которого даже ошибки — истинны. Он очень подробно размышлял о том, что такое искусство. Всякий «человек искусства» должен «вертеться» вокруг этой темы, а Толстому — сам Бог велел.
Мысль Толстого, лаконична: люди не понимают искусства. Художники не берутся растолковать свои произведения. Потому что это невозможно в принципе. Их совет: смотрите, слушайте, читайте еще и еще раз. Может быть, когда-нибудь поймете.
Как же все-таки быть? Успокоиться тем, что большинство безнадежно непонятливо?
Лев Толстой: «Все усилия художника должны быть направлены на то, чтобы быть понятным всем».
Значит, проблема не в большинстве, а в художнике. «Движение искусства вперед направляется к все большей и большей понятности всем, как это всегда было, есть и будет, а не к все большей непонятности».
Как бы то ни было, людей надо приобщать к искусству, а не отвращать от него, и на этом «фронте» художник должен находиться на переднем крае, а не уходить в обиду на то, что люди не подготовлены к искусству.
Речь идет о зрителе, который сам проявляет какой-то интерес к искусству. Это — «электорат» художника. Но подавляющая часть народа к искусству не причастно. И это вопрос социальный. Человек, живущий в нищете, угнетенный, придавленный ко дну жизни, приученный и принужденный к низкому, а не к высокому, потребности в искусстве не почувствует. Не до того ему.
Другой аспект — границы искусства. Есть такое впечатление, что из века в век горизонты искусства расширяются, что оно захватывает одну область за другой. Владимир Маяковский, например, «подчинил» поэзии такие сферы жизни, в которых ей, казалось бы, не было места.
Искусство — ширится. Но есть ли пределы его расширению? Есть ли черта, через которую нельзя переходить, есть ли преграды, недоступные искусству, есть ли территории, на которые оно само не должно ступать?
Я думаю, что они есть — запретные для искусства зоны. Это — как раз зоны абстрактного. Зоны, в которых искусство перестает быть искусством. Где оно отказывается само от себя. Там ему нечего делать. Это — чужое пространство. Гибельное для искусства. Оно действительно безобразное, то есть без образа, а без образа нет искусства. Как нет науки без понятия.
Выразиться — страсть и страдание
Илья Эренбург приводит несколько высказываний Пикассо о своем творчестве, о своем, так сказать, методе.
«Я ищу одного — выразить то, что хочу».
Об импрессионистах: «Они хотели изобразить мир таким, каким они его видели. Меня это не увлекает. Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю».
Но каким мыслит мир Пикассо? Каков его мир? Чем он отличается от мира, в котором он жил?
Может быть, в голове Пикассо держал свой мир. Судя по тому, что он был коммунистом, его мир выглядел пригляднее реального. Но прославил художника не он, а «Герника» — мир абстрактного ужаса, разрухи, безумия, отчаяния…
Илья Эренбург: «Сила Пикассо в том, что самую глубокую мысль, самое сложное чувство он умеет выразить языком искусства».
Фраза слишком категоричная. Только в одном соглашусь с Эренбургом — абстрактное понятие «мир» Пикассо выразил не абстрактным, а реальным образом голубя. Что отнюдь не ново.
В чем страдания художника?
Он страдает от того, что не может выразиться.
Он не может полно выразиться уже потому, что его искусство не охватывает весь объем действительности. Живописец страдает, потому что ему даны только краски на плоскости. Он лишен звуков, ему трудно передать движение.
Музыкант лишен красок. Он вынужден искать свои краски, звуковые.
Танцор должен обходиться только жестом.
И у всех отняты слова.
Создается впечатление, что возможно какое-то синтетическое искусство, в котором, помогая и дополняя друг друга, во всеобщей гармонии, сольются все его виды. Но такого искусства пока нет. Опера? Да, опера вроде бы дает место и певцу, и танцору, и музыканту, и даже художнику, но можно ли сказать, что опера — искусство искусств?
Пока искусство делится на специальности. Известно, что Владимир Васильев не только выдающийся танцовщик. Он рисует. «Без живописи я не живу ни дня». Он пишет стихи, издает поэтические сборники. Он режиссер. Однако судьба Васильева — в танце. Наверное, иногда все его увлечения счастливо сходятся и сливаются в какой-нибудь постановке, но большей частью они существуют отдельно друг от друга. И, пожалуй, не найти примера, чтобы один человек поднимался к высшей планке в нескольких искусствах сразу. На такое обычно не хватает сил. Слишком широкий диапазон интересов приводит к средним результатам в каждом из них.
Выразиться — смысл творчества, его муки. Однако почему-то в творчестве страдания и муки — на поверхности, а его радости — под покровом. Почему так трудно выразиться? Трудности эти могут быть «собачьими»: хочет, но не может сказать. Тут два варианта: что и как. Страдания художника неизбежны и «заслужены», если он неясно, размыто, а главное, холодно, видит то, что пытается выразить. Когда «что» неявно и неярко, не получится и «как». Другими словами, если содержание не горячо, то и форма будет холодной. Нет смысла искать форму, не имея содержания. Когда «что» уже нестерпимо внутри и рвется из груди, о том «как» можно не беспокоится: оно отыщется само собой. И будет соответствовать содержанию. Будет достойно его. И чем необычнее, чем оригинальнее содержание, тем необычнее и оригинальнее будет форма. И если при этом все же необходимы страдания, то как раз для огранки того «что» и того «как».
Выразиться — это сказать то, что нельзя не сказать, не выкричать. То, что уже не удержать в себе. Речь не об искренности, а о слепой уверенности, что человечество погибнет, если художник не докричится до него. А если не сказать — можно, то не грех и промолчать. Одного
 не должен допустить художник — подумать, что его душевные запасы редки и драгоценны, как бриллианты-самоцветы, и его право излить их, вплоть до мимолетных чувств и едва уловимых поветрий.
не должен допустить художник — подумать, что его душевные запасы редки и драгоценны, как бриллианты-самоцветы, и его право излить их, вплоть до мимолетных чувств и едва уловимых поветрий.
Нет для художника ничего хуже, чем выразиться и не быть понятым. Я думаю, Маяковский поэтому застрелился.
Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят — что ж?!
По родной стороне пройду стороной,
Как проходит косой дождь.
Михаил Фонотов



